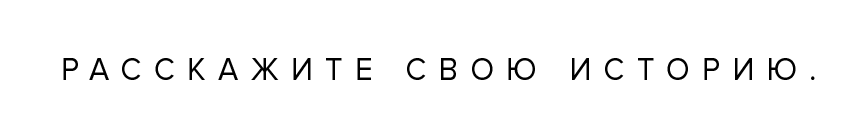‘Сострадание – это чувство, которое останавливает мысль
перед всем значительным и постоянным в человеческих бедствиях
и соединяет нас с терпящими бедствие. Страх — это чувство,
которое останавливает мысль перед всем значительным и постоянным
в человеческих бедствиях и заставляет нас искать их тайную причину.
Чувство трагического, по сути дела, — это лицо, обращенное в обе стороны,
к страху и к состраданию, каждая из которых — его фаза.’
— Джеймс Джойс ‘Портрет Художника в Юности’
Привет, Леша.
Знаешь, в последнее время было немного грустно. Происходящее каждый день добавляло тяжести мыслям. Но потом приехал Хулиган. Вернулся в повествование — говорю я. И начались легкие летние дни и обычные для него хулиганские вылазки в разные интересные слои реальности.
Утром твоего дня рождения мы пошли пить кофе в бук-шоп при маленькой галерее. Пока готовился кофе, мы разглядывали книжные полки — люблю эту неудобную позу свернутой набок головы, чтобы рассмотреть вертикальные заголовки. С самых первых наших встреч с Хулиганом, когда в незнакомом городе он сразу потащил меня в книжный, где мы долго ходили с головами набок между полок, и где я поймала и озвучила ему это чувство, оно так и ассоциируется у меня с ним.
Из книг по искусству и кураторству на меня вдруг выпрыгнула ‘Портрет Художника В Юности‘ Джойса.
— О, моя любимая книга. Читал?
Хулиган сказал, что поверил ревью одного для себя авторитетного критика и решил не замахиваться на Улисса.
— Улисса я тоже не осилила, хотя у меня она была и я несколько раз ее начинала, но это другое. Это было до, Джойс был еще молод, это немного автобиография. Очень классная, я прочла ее в юности и всю жизнь живу с ней. Я, кстати, купила ее на английском в книжном секонде в Белграде, когда ездила к тебе. С пометками на полях — в тех же самых местах, что отметила бы я, представляешь? И только сегодня утром я запостила письмо Навальному про нее.
Я не рассказала Хулигану — это было бы уже слишком — про то в этой книге, что не отпускает меня уже лет 20 — определение Прекрасного. В мое фото-письмо тебе Красота & Истина оно тоже не уместилось. Но я обязательно расскажу тебе о нем, так или иначе.
И вот мы сидели в старом центре города и пили кофе за маленьким шатким столиком прямо у проезжей части.
Над нами в узком русле улочки текло ярко-синее летнее небо. В него косо устремлялся какой-то острый серебристый шпиль. По берегам этой небесной реки на балконы с геранями и креслами выходили утренние люди с чашками и сигаретами. С небесной реки дул сильный теплый ветер. Он нес по воздуху светящиеся на солнце пушистые фрагменты то ли облаков, то ли тополиного пуха. Скорее второе, потому что Хулиган аллергически покашливал.
Начало июня выглядело и ощущалось как начало июня. На Хулигане была футболка с надписью Хулиган. Все было ровно тем, чем казалось. Все было очень ясно, отчетливо и очень фактурно. И то, как ветер унес оранжево-полосатую заградительную пирамидку и Хулиган погнался за ней, смеясь, что сейчас его за это арестуют. И припарковавшийся через дорогу белый фургон с мужчинами в белой спецодежде. И две прошедшие мимо нас женщины в ярких платьях с цветами в руках. И шевеление акациевой листвы над нами. И летящий клочками свет.
Все было как в рапиде.
— Какое кинематографичное утро, — сказала я. — Это свет, или время суток, или я?
— Киев в хорошую погоду всегда кинематографичный. — Сказал Хулиган. — Да и в плохую тоже.
— Все какое-то нереальное.
— Ты же помнишь Эмиля? Моего приятеля? Мы с ним придумали вчера новое слово: БЕЗРЕАЛЬНИК. Ну это как НЕАДЕКВАТНИК, только тот, который, ну, совсем без реальности, знаешь?
— Оторванный от реальности, ага. Супер слово, буду юзать.
Над нами на середину небесной реки быстро выносило ветром огромное белое сердце. Его медленно рассекали птицы.
Я замерла. Как будто всего остального было не достаточно.
— Смотри какое гигантское сердце проплывает над нами.
Хулиган поднял голову.

— Конечно, это может быть и задница, но мне хочется верить в лучшее, — попыталась сбить пафос момента я.
По пустой дороге проехала машина с работающими на полную мощность сабами — из нее раздавался атмосферный мелодичный звук, напоминающий молитвенный распев муэдзина. Я прислушалась, мгновенно вспомнив ночные побудки в Египте, но это оказалось началом какого-то рэп трека.
— Показалось. — сказала я вслух.
— Ты видела интервью?
— Протасевича? Да. Не хотела поднимать эту тему, чтобы не портить настроение… Весь день избегала смотреть, но я же не могу голову в песок… Ужас.
— Да, ужас.
— Ты извини, кстати, что так себя вела на встрече с Поэтом. Я, честно, каждый раз думаю: приду и буду вести себя сдержанно, сложу руки на коленях как приличная девушка, и буду сидеть и тихо слушать. Сижу тихо, минут 30-40, а потом все равно — сшсшссс! — как эта, ну знаешь, змея с капюшоном. — Рукой на столе я изображаю резкий подъем головы кобры. — Я работаю над собой, правда. Но не всегда получается.
— It’s fine, — смеется Хулиган, — я и сам такой.
Это правда.
— It’s fun! Not fine. Но бывает весело, да.
— Просто ты забываешь…
— … что моего мнения как бы не спрашивали, да. Что моя задача была только устроить вам встречу.
— Нет, это хорошо, что ты участвовала, просто ты забываешь, что я же специально и тщательно выстраиваю коммуникацию так, чтобы человеку было комфортно отвечать на вопросы, которые могут быть для него чувствительными.
— Да, я знаю. Это не случай Поэта, он легко отвечает на любые вопросы, но вообще — да. Поэтому я и говорю, — серьезно! — что ты добрее меня. По сравнению с тобой я радикалка — у меня или черное, или белое. Если люди совершали такое — как с Протасевичем — они заслуживают наказания, точка.
— Пожалуйста, давай не будем возвращаться к этой теме.
— Не будем.
…
Тема, к которой мы не хотели возвращаться, была тема, поднятая Хулиганом позавчера в разговоре с беларуским Поэтом.
Хулиган попросил организовать с ним встречу, я предложила Поэту пообедать с нами днем или накатить вечером.
— Накатить мне пока хватит, я и так потихоньку прибухиваю, ибо это реально депрессия. — ответил Поэт, так что мы встретились днем.
— Можно спросить в чем причина твоей депресии? — спросила я вместо приветствия. — Просто ты совсем не похож на человека в депрессии, но мы-то все хорошо знаем что это, да и сами в депрессии не похожи на людей в депрессии. Это что-то связанное с самоощущением, или с глобальным контекстом? Не отвечай, если не хочешь.
— Да что тут секретного, — ответил Поэт, — конечно, это глобальный контекст.
То, что происходит каждый день в моей стране. Встаешь с утра, смотришь новости — пиздец. К вечеру привыкаешь, потом напиваешься, вроде чуть полегчает, с утра просыпаешься, смотришь новости — полный пиздец.
— Понятно. Полный пиздец, да.
— Ну вот как вчера.
Вчера беларуский политзаключенный Степан Латыпов, попытался перерезать себе горло в зале суда.
— Меня это просто убило.
— И меня, просто вырубило.
Мы втроем сидели под липами, Поэт снова крутил ароматные папиросочки, и вот тогда Хулиган и поднял эту тему — о необходимости публичной дискуссии вокруг судьбы силовиков после смены власти. Какие сценарии были в разных странах с разным контекстом — на Кубе, в Венесуэле, в Сербии; что может случиться с каждым из них, какие есть варианты — трибунал, амнистия; ну и все такое, призванное заставить их задуматься и одуматься.
Я говорила, что дискуссия на эту тему, в общем-то, существует, что Светлана Тихановская обращалась к силовикам и предлагала мирное и человечное решение вопроса, и переход на сторону людей, и отсутствие санкций. Что существует такой проект как BYPOL — и, соответственно, активная группа информаторов и громкая дискуссия вокруг них. Что у силовиков, принимающих участие в терроре, было 10 месяцев раздумать и осознать; и что те, у кого был когнитивный диссонанс от происходящего, давно приняли решение и отказались выполнять преступные приказы.
Что те, кто продолжают обслуживать репрессивную машину — особый, психологически, тип людей, и коммуницировать с ними бессмысленно, они все заслуживают наказания, а Хулиган — слишком добрый и идеализирует их.

Хулиган спорил со мной и говорил, что все люди разные, у всех разные обстоятельства: кто-то сразу ушел из полиции, потому что его дети или братья были среди протестующих, а у кого-то только сейчас подросла дочь, ей исполнилось 16 и она может оказаться на улице или в СИЗО, и тогда и до него дойдет.
Я говорила, что он аппелирует к морали, тогда как здесь всего лишь материальная мотивация. Это самая привилегированная каста в нищей стране, и даже если им понятно, что Лукашенко — политический доходяга, они слишком хорошо замотивированы финансово, потому предпочтут сохранять status quo до последнего, еще сколько-то месяцев получая хорошее жалованье, устраивая детей в ВУЗы по льготам и приобретая недвижимость.
— И какой же status quo в данном случае? — спрашивал Хулиган.
— Да тот, что существовал 26 лет и сформировал эту сословную систему.
— И что такое “до последнего”?
— До дня, когда режим рухнет.
— А ты не думаешь, что то, когда этот день наступит, зависит, в том числе, и от силовиков? И что, коммуницируя эту тему, аппелируя к ним, можно и так расшатывать лодку режима и приближать этот день?
— Да, но говорю же: все сомневающиеся или идейные уже покинули ряды, а лояльность оставшихся очень дорого покупают.
Хулиган оппонировал, что я преувеличиваю, и не все полицейские и военные, особенно в маленьких городах, получают прямо такую уж высокую зарплату.
Я говорила, что в сравнении с остальным населением страны в кризисной экономике — очень высокую, на том вся лояльность и держится.
Хулиган говорил, что я все слишком упрощаю, что все куда сложнее. Что вот он сам тоже служил в военной полиции (а до этого его отец), и видел изнутри насколько разные у всех обстоятельства. Да, они тоже получали неплохое жалованье на войне, и у всех были свои причины там быть, семьи, которые нужно было кормить, проблемы, которые нужно было решать.
Я говорила, что ему, конечно, виднее; что он, наверняка, прав — во всем прав. Но, как по мне, он сравнивает несравнимые вещи.
— Ты был призывником, не контрактником; шла настоящая война — в стране была чрезвычайная ситуация, тебя призвали и ты выполнял приказ, ты боролся с официальным врагом страны.
— Ты — за три войны! — умудрился никого не убить и старался ни в кого не стрелять. А они — добровольно — не во время войны, в мирное время — убивают и пытают граждан своей же страны, которых присягали защищать. Как можно сравнивать!?
— Ну с их позиции, в их восприятии, они борются с врагом. Их можно понять, если постараться.
— Причем тут их восприятие и психология к фактам преступлений? Как ты вообще собираешься достучаться до них как до аудитории?
— Я не знаю! Пока. Нет, вообще, все — бессмысленно, не нужно ничего делать! — загонял меня в угол Хулиган.
Мы дискутировали очень шумно, он повышал на меня голос — ‘Hey, let me finish!!’ — и говорил: ‘Она один из самых эмпатичных людей, что я знаю, но иногда это просто невыносимо! Ты же не слушаешь и не даешь сказать!’
Я смеялась: О, как я скучала по твоему ‘Let me finish!’ Прости, я специально тебя провоцирую, чтобы это услышать!’; и извинялась перед Поэтом за то, что им тут устроила.
— Да классное шоу, — смеялся Поэт. — Вот бы вас в одну панельную дискуссию.
— Да ‘Панельная Дискуссия’ — это название нашего бэнда.
— За полтора часа мне стало ясно, что дискуссия — это ваш способ восприятия друг друга. Сколько лет вы дружите?
— Мм, пять. — сказала я.
— Десять! — сказал Хулиган.
— Откуда десять? У тебя год за два?
— Какие пять? Когда мы встретились?
Пока мы выясняли, что встретились мы 6 лет назад, Поэт тихо над нами ухахатывался.

…
И вот в твой День Рождения мы с Хулиганом сидели под облаками, стараясь избегать этой темы.
— Не хочешь потом со мной..?
— Хочу. Куда?
— Погулять немного и на рынок.
И мы поехали в Багдад — мусульманский район города с рынком и новой прогрессивной мечетью. Потому что была пятница и приятель Хулигана, крымский татарин Эмиль ехал туда на намаз, а мы за компанию потусить, если рынок работает.
По пути я прочла Хулигану твит из своей ленты:
Если я когда-нибудь скажу, что Путин мудрый лидер со стальными яйцами, знайте: либо меня пытали, либо угрожали навредить моим близким.
Alex Mercury
— Точно! — Загорелся глазами Хулиган. — Флешмоб! Мы все должны снять такое видео! Восхваляя наших политиков так, чтобы было ясно, что нас пытают.
— Да! С синими лицами, в наручниках, довести все до абсурда.
Почти тут же пришло сообщение от нашего с Хулиганом друга Бо с ссылкой на статью в The Guardian.
— ‘Belarus airs more footage of detained activist as family call it ‘hostage’ video‘. Бедный мальчик. Его выставили напоказ во всех гос медиа. Твоя идея о том, что надо просто пристрелить ублюдка — единственная имеет смысл теперь.
— Я сказала ровно то же самое: бедный мальчик.
На днях в разговоре с Бо я шутила, что скинуться всем и нанять киллера для Лукашенко — единственное, что поможет Беларуси.
— Ха, смотри. — я показала Хулигану сообщение от Бо.
Вряд ли он понял, что это был мой аргумент в позавчерашнем споре между гуманностью и непримиримостью, который мы решили не продолжать.
— Думаю, мы можем организовать какой-то активный служебный отряд типа тех, что были у IRA, и помочь миру. — продолжал невесело шутить Бо.
Я отправила ему твит и рассказала об идее Хулигана с видео-флешмобом.
— Да, ха-ха. Один из самых смешных комментариев я видел у известного сербского писателя, который вдруг стал поддерживать правительство, а ему такие: “Моргни! Пожалуйста, моргни!”
— Да, у нас в русском твиттере тоже так шутят.
— Я тоже думал о видео в стиле Monty Python, где все признаются в том, что они преступники, а Лукашенко — потрясающий лидер. “I am Brian and so is my wife.”
— И Путин, и ваш Александр… — Хулиган, как фамилия вашего президента? Гучич? Прям как Гуччи. — …Гучич.
— Вучич. Ахаха. Да. Люди не понимают, что все эти автократы заимствуют у Лукашенко. Он двигает границы.
…
По пути туда Хулиган с Эмилем говорили о религии, о пяти столпах Ислама (ну ты знаешь, ты же изучал Коран: шахада, намаз, ураза, закят и хадж); Хулиган, раздающий деньги всем встречающимся на пути — это шахада — сам поднял тему.
‘Он-то всегда был атеистом, но чем старше становишься, чем больше осознаешь, что жизнь скоро закончится, тем больше не хочется, чтобы заканчивалась’ — так и начинаешь поглядывать в сторону загробного бонуса. Недавно, в мае, у Хулигана как раз был день рождения, наводящий на эти темы.
Вспомнили традиции майских праздников. В Сербии 9 мая День Победы особо не празднуют, говорил Хулиган, потому что день освобождения Сербии был позже — 15 мая, празднуют, в основном его и День Молодежи 25-го.
Эмиль вспомнил историю своего крымско-татарского деда, который, как и многие крымские татары не имел документов, удостоверяющих личность, и даже не знал даты своего рождения. Но когда в каком-то там году для каких-то целей всех крымских татар обязали завести документ, дед, который хотя и ненавидел советскую власть, но воевал и очень любил День Победы, от балды записал себе днем рождения 9 мая.
— А сегодня День Рождения у Навального. — сказала я.
— Да? Какое сегодня число? — спросил Хулиган.
— Четвертое июня.
Мы проходили здание то ли таможни, то ли полицейского управления, с кучкующимися у ворот автомобилями.
— Норм Range Rover выезжал, видел? — спросил Эмиль.
— Ага. Знаете, есть такой сербский анекдот про таможню. Женится, значит, таможенник, коллеги обсуждают что подарить на свадьбу. ‘Давайте подарим ему Ferrari?’ — ‘Oh, come on, человек женится, что такое Ferrari? Ferrari — это ничего.’ — ‘Ок, и правда, что такое машина. Давайте подарим молодым на новый дом.’ — ‘Он столько лет с нами работает, ну что такое дом? Это как-то тоже не серьезно’… — ‘Ладно, давайте просто подарим ему экстра-смену?’ — ‘Нет, послушайте, ну смена — это уже как-то чересчур!’
…
Рынок все же был закрыт, но мы поели ароматного плова, моментально телепортирующего в Крым — выходит, мы проделали такой путь ради плова?! Класс! — Эмиль показывал нам фото друзей, недавно женившихся в этой мечети, и их общего муфтия — прогрессивного дядьки из Донецка, сбежавшего в Киев после начала событий на Востоке, очень антипутински настроенного — он говорит, что, если что, то он первым возьмет винтовку и пойдет воевать против российской армии.
Потом мы с Хулиганом сидели на заборчике у современной мечети, дожидаясь Эмиля со службы, попивая крепкий турецкий кофе из крохотных стаканчиков, скролля ленты новостей и перебрасываясь репликами по теме. Протасевич. Его родители. Реакция международных медиа. Как бы нам запустить флешмоб.

По небу плыли мелкие облачка в форме свушей Nike. В воздухе пахло едой на огне и специями. Доносились отзвуки пения муэдзина. Все же не показалось мне тогда у дороги, подумала я.
Все это время мимо нас к мечети бежал пестрый человеческий ручеек: женщины в ярких абаях и черных хиджабах, арабские мужчины в светлых галабиях и тапках на босу ногу, молодые подвижные афроамериканцы в дреддах и джинсах, черноволосые татарские мальчишки в клетчатых рубашках — это был такой другой мир, я и забыла где нахожусь. Многие из них с интересом косились на нас.
— Наверное, думают: а ты-то почему не внутри? — пошутила я на тему боснийского происхождения Хулигана, во всех аэропортах принимаемого за мусульманина.
— Приезжай летом ко мне в Сербию, правда? — сказал Хулиган.
— Я бы очень хотела. А воды, моря у тебя там нет? А машину ты не водишь?
— Моря нет. Машину не вожу.
— Посмотрим как все будет разворачиваться.
— Ну работать работу ты можешь в интернете и оттуда. Мы в этом году с парнями, наверное, не поплывем на яхте в Хорватию.
— Почему?
— Ну там у одного стройка, нужно все серьезные работы провести до июля. Потом еще что-то там. Посмотрим. Я уговариваю хотя бы на 3 дня.
— Конечно. Это же традиция.
— Традиция. Мы 12 лет плавали.
— Традиции нельзя нарушать. Один раз нарушишь — и все. Я тебе рассказывала про нашу с Рыжиком традицию? У нас есть секретный двор в центре, старинный, и там есть лавка в жасминовых кустах. И каждый год в мае-июне мы берем красивые бокалы, ее собак, и идем пить вино в этих кустах. А в прошлом году пропустили из-за карантина, и в этом — он уже зацветает, а мы никак не можем собраться.
— Да, и мы тоже в прошлом году пропустили.
— В общем, надо-надо.
— О, Палестинский Дом, — ткнул в вывеску за нашими спинами вернувшийся Эмиль. — Я и не видел когда он тут открылся.
Я отвлеклась, когда у них с Хулиганом завязалась тема Израиля и Палестины.
— Мы же нормальные люди, мы поддерживаем всех — и Израиль, и Палестину… — говорил Эмиль.
— Вообще-то, я поддерживаю Израиль, — включилась я.
— Шшш! Только про Израиль тут не хватало, — зашикал на нас Хулиган, озираясь. — На чужой территории. Давайте не будем провоцировать, пока нас не побили.
— Ну в смысле мы, конечно, поддерживаем Палестину, мы не поддерживаем Хамас, и мы конечно разделяем, что это не одно и то же. — перешла я на шепот.
— Эй, давай не здесь!
— А как тебе этот цирк, который Лукашенко устроил с Хамасом? — не унималась я.
— Шшш! Конченный идиот.
…

По пути назад мы снова говорили о религии. Об апокалиптичных сценариях Конца Света христиан и свидетелей Иеговы, о самопровозглашенных пророках, популярных одно время в Америке.
Я сказала, что по каким святым институциям меня только не носило: я была и в мечетях, и в католических, и православных храмах, и в куче буддийских датсанов – в Улан-Уде, Элисте, в Азии, на тех самых учениях Далай-Ламы в Тибете — а ведь я атеист. А сколько свидетелей Иеговы мы обошли с Хулиганом! (У него фишка — он фотографирует их в каждой стране, где бывает.)
Хулиган сказал, что буддизм — странная, стоящая особняком религия, в центре которой находится сам человек. Он претендует на то, на что не замахивается ни христианство, и ни одна вообще религия — на то, что каждый может стать богом. Ты же не можешь стать Иисусом, но можешь стать Буддой.
— Да не стать богом, а приобрести его качества. Работая над собой, по его примеру, достичь такого же уровня духовного развития. Как, собственно, и в христианстве. Если все эти личности вообще существовали.
Эмиль пересказал какую-то теологическую лекцию, где лектор сравнивал принцип Троицы (Отец-Сын-Святой Дух) с блокчейном и децентрализованным обладанием идейным токеном.
Я перессказала шутку про партеногенез, который, если и имел место в случае Иисуса Христа, то тогда он был девочкой, раз реплицируется только женский набор хромосом.
— Да? А может, он был транс-персоной? — уточнил Эмиль.
— Его гендерная идентификация не важна, генетически и физически он был бы женщиной.
— А может он и был?
— А может, просто не было никакого непорочного зачатия?
Хулиган пересказал шутку из телешоу Angels In America, где отчаявшийся еврейский парень-гей, у которого все умерли, на очередных похоронах исповедуется Рабби, которого играет Мерил Стрип, и рассказывает как он грешен и что все это ему в наказание, а тот отвечает ему, что-то вроде: ‘Чувак, иди найди себе духовника.’ — ‘Но я не католик, я еврей!’ — ‘Но у нас евреев все исключительно о страдании.’
Стоя где-то посреди нигде и зеленого лета, пока он рассказывает, жестикулируя за всех персонажей, мы трое хохочем как ненормальные. И это прекрасно.
Я потом посмотрела этот фрагмент, на самом деле там было: “Worse luck for you, bubbulah. Catholics believe in forgiveness. Jews believe in guilt.” — Тем хуже для тебя. Католики верят в прощение, евреи верят в вину.
И это уточнение важно, потому что оно как бы замыкает наш с Хулиганом спор о беларуских силовиках, где он явно католик, а я, очевидно, еврей.
…

По пути к метро я заметила свежераспустившийся жасминовый куст, сделала фото и отправила Рыжику. Мы договорились наблюдать жасмин и как только он зацветет, так сразу пойдем. ‘Да-да!’ — ответила Рыжик.
Моя мама обожает жасмин — в юности мы с сестрой всегда ходили его ломать в ночь перед ее днем рождения, в конце мая.
У метро немолодая женщина в толстом слое тонального крема продавала жасминовые ветки.
— Что почем?
— Жасмин — сивол любви и страсти! — страстно набросилась на меня женщина с заготовленным монологом.
— Да-да, просто скажите сколько, а то мало наличных.
— Жасмин — сивол любви и страсти! Возьмите и будет вам..! — суетилась женщина, тыкая в меня пахучими ветками.
— Да беру, беру, дайте 2 букета.
— Жасмин — цветок любви, дорогая! — не унималась она, точь-в-точь как цветочница из ‘Портрета Художника В Юности’.
— Боже, можно, пожалуйста, быстрее? Меня там люди ждут.
Я взяла 6 веток — для себя и для D, передать ей с Хулиганом. Мы разошлись в центре города, каждый с пахучим, светящимся на просвет микро-деревцем в руках.
…
Придя домой с сыплющим лепестками кустом жасмина и с нестряхиваемым ощущением волшебства — и четким намерением написать тебе об этом дне — я обнаружила твое новое деньрожденческое письмо:
“Очень много странных событий произошло со мной за год.
Отравление и смерть в самолете. Странная бонусная жизнь, я учился ходить и говорить заново. Раскрытие покушения и телефонные разговоры с теми, кто хотел меня убить. Возвращение домой, арест на границе, дикие, абсурдные «суды», «Кремлевский централ» и колония, похожая на карикатурный концлагерь «Большого брата». Болезнь, отказ в медицинской помощи и голодовка. И вот все это происходило, а я внимательно следил за собой.
Я очень не хотел озвереть. Ну, сами понимаете, такого рода события весьма способствуют превращению человека в какое-то подобие затравленного волка. Ненавидящего всех, мечтающего о расстрелах и посадках врагов. Для того, чтобы уснуть, считаешь не овец, а тех, кого повесишь в первую неделю прихода к власти. Эмоции такие мне понятны, и — честно скажу — боялся, что они станут большой частью меня. Ведь план был ровно обратный: немножко больше любить и понимать всех людей.
Вы не подумайте, я не чокнутый пацифист и не религиозный фанатик. Со своих позиций я не сдвинулся ни на миллиметр. Борьба с коррупцией и справедливый суд для злодеев — ключевая часть моей повестки. Но встречаясь с каждым и особенно с теми, про кого я первой мыслью думаю: «Ох ты гад, я бы тебя придушил», я стараюсь первую мысль отогнать и второй мыслью изо всех сил пытаюсь человека понять, простить и даже (не называйте меня извращенцем) немного полюбить.
Это нелегко, но я прилагаю все возможные усилия. Как там: «И если вы приветствуете только братьев ваших, что особенного делаете?»
Хулиган об этом не знает, но это твое письмо — его окончательный аргумент в нашем споре.
…
Я обещала рассказать тебе об определении Прекрасного. Все мое письмо, так или иначе, было об этом — думаю, ты догадался. Но напоследок будет все же определение Джойса.
— Фома Аквинский говорит: “Ad pulchritudinem tria requiruntur: integritas, consonantia, claritas”. Я перевожу это так: “Три условия требуются для красоты: целостность, гармония, сияние”.
— Соответствует ли это фазам восприятия?
Стивен показал на корзинку, которую разносчик из мясной лавки, перевернув ее вверх дном, надел на голову.
— Посмотри на эту корзинку, — сказал он. — Для того, чтобы увидеть эту корзинку, твое сознание прежде всего отделяет ее от остальной видимой вселенной, которая не есть корзина. Первая фаза восприятия — это линия, ограничивающая воспринимаемый объект. Эстетический образ дается нам в пространстве или во времени. То, что воспринимается слухом, дается во времени, то, что воспринимается зрением, — в пространстве. Но — временной или пространственный — эстетический образ прежде всего воспринимается отчетливо как самоограниченный и самодовлеющий на необъятном фоне пространства или времени, которые не суть он. Ты воспринимаешь его как единую вещь. Видишь как одно целое. Воспринимаешь его как целостность. Это и есть integritas.
— Затем, — продолжал Стивен, — ты переходишь от одной точки к другой, следуя за очертаниями формы, и постигаешь предмет в равновесии частей, заключенных внутри его пределов. Ты чувствуешь ритм его строения. Другими словами, за синтезом непосредственного восприятия следует анализ постижения. Почувствовав вначале, что это нечто целостное, ты чувствуешь
теперь, что это нечто. Ты воспринимаешь его как согласованное единство, сложное, делимое, отделяемое, состоящее из частей, как результат этих частей, их сумму, как нечто гармоничное. Это будет consonantia.
— В самое яблочко, — смеясь сказал Линч. — Объясни мне теперь про claritas, и за мной сигара.
— Значение этого слова не совсем ясно, — сказал Стивен. — Фома Аквинский употребляет термин, который мне кажется неточным. Долгое время он сбивал меня с толку. По его определению получалось, что он говорит об идеализме и символизме и что высшее свойство красоты — свет, исходящий из какого-то иного мира, в то время как реальность — всего лишь его тень, материя — всего лишь его символ. Я думал, что он разумеет под словом claritas художественное раскрытие и воплощение божественного замысла во всем, что claritas — это сила обобщения, придающая эстетическому образу всеобщее значение и заставляющая его сиять изнутри вовне.
Но все это литературщина. Теперь я понимаю это так: сначала ты воспринял корзинку как нечто целостное, а затем, рассмотрев ее с точки зрения формы, познал как нечто — только таков допустимый с логической и эстетической точки зрения синтез. Ты видишь, что перед тобой именно этот предмет, а не какой-то другой. Сияние, о котором говорит Аквинский, в схоластике — quidditas — самость вещи. Это высшее качество ощущается художником, когда впервые в его воображении зарождается эстетический образ. Шелли прекрасно сравнивал его с тлеющим углем…
Это сияющий немой стасис эстетического наслаждения — духовный момент, очень похожий на сердечное состояние, для которого итальянский физиолог Луиджи Гальвани нашел выражение не менее прекрасное, чем Шелли, – завороженность сердца.