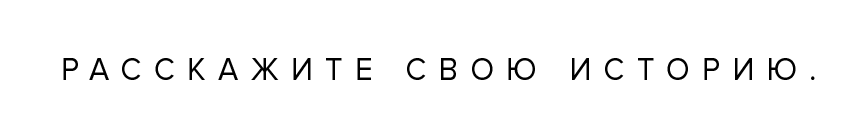“Люди, которые признают войну не только неизбежной,
но и полезной, а потому желательной — эти люди страшны,
ужасны своей нравственной извращенностью.”
— Л. Н. Толстой, “Война и мир”
Дорогой Алексей!
Сейчас, когда идет эта проклятая война и мои соотечественники мучают, убивают и терзают Украину, я пытаюсь представить себе, что происходит в сердцах детей, потому что все люди родом из детства.
Себя помню с очень раннего возраста — помню картины, звуки, голоса, запахи и лица, помню книжки и своего первого и второго мишку, а главное — свои мысли и чувства. «Ты не можешь помнить нашу комнату на Петроградской — мы переехали на Васильевский, когда тебе было 4,5 месяца», — говорила мима. Но я помню, помню шкаф, большую кровать, которая где-то внизу, и как меня носят на руках и подносят к зеркалу, а вот пола там не было — я слишком высоко проносилась над полом на отцовских руках.
Не помню, как узнала о существовании Бога — наверное, это знание было врожденным. Но помню диалог. Мне года три-четыре, потому что живем еще на Васильевском. Папа нарочно «испытывает» меня, притворяясь непонимающим. Сопровождая свой вопрос мимикой и жестами, он говорит:
— Ну как это Боженька видит каждого человека и знает все все его мысли, ведь на земле миллиарды людей? Наверное, Ему архангелы помогают.
А мне его вопрос и объяснение кажутся нелогичными: то, что невозможно для человека, возможно для Бога, и архангелы здесь ни при чем. Но я пока не могу это сформулировать и поэтому очень волнуюсь и кричу:
— Папа, но ведь Он же Бог! Бог!
Помню, как папа объяснил мне закон всемирного тяготения года в четыре. Он берет предмет и выпускает — предмет падает на пол.
— Видишь, — говорит папа, — падает, потому что все тела притягиваются к земле
— Нет, — возражаю я, — ведь тогда электрички в метро притягивались бы к потолку.
— К центру земли, — уточняет папа.
А еще помню, как папа говорит со мной о смерти — ведь о ней я уже знаю из книг, например, из сказки о Мальчише Кибальчише.
— Понимаешь, — говорит папа, — есть очень старые люди, которые живут очень-очень давно. Они все уже знают, им неинтересно, жить надоело, и они умирают. Я пытаюсь представить этих «очень старых» людей, потому что мне кажется невозможным не хотеть жить. Бабушка молодая — ее всегда принимают за мою маму. Няня Феня, конечно, старенькая, но такая веселая и добрая, играет со мной, даже под стол залезает, когда мы играем в прятки. Дедушкина крестная приходит к нам в гости (самого дедушку я не застала, он погиб в автокатастрофе молодым), но и она веселая и добрая. Нет, они не могут перестать хотеть жить. И в моем сознании происходит успокоительная логическая подмена: раз жить не надоело, то и не умрешь.
В возможность своей собственной смерти я изначально не верю, как все дети (и дети правы, потому что человеку прирождено ощущение бессмертия своей души, и, лишь повзрослев и очерствев, некоторые и начинают верить в конечность своего бытия), но на всякий случай удостовериваюсь. Вот наша комната в коммунальной квартире на Васильевском. Мне года три. Я подхожу по очереди к маме, папе, бабушке с вопросом: «Ты не умрешь?». И помню, как бабушка с абсолютно серьезным лицом твердо отвечает мне: «Нет». Ну так и делу конец. В моем мире места смерти нет и не будет.
Но в моем детстве, бесспорно счастливом, в котором было так много любви, тепла, нежности и который сейчас вспоминаю как рай, была одна настоящая фобия— страх войны.

Я не помню, как я узнала о войне, но в Ленинграде войну помнили даже стены домов и камни мостовых, здесь жили люди, перенесшие блокаду или, в лучшем случае, эвакуацию. Они окружали меня. Это была генетическая память, родовая, память семьи. И одно из первых моих слов было «немцы», которое я произносила как «немцЫ».
— Это немцЫ?, НемцЫ? — спрашивала я, когда по телевизору показывали кино. Немцы — враги.
А вот мы уже в отдельной квартире в Дачном. Смотрим по телевизору фигурное катание. Тогда все массово смотрели фигурное катание по черно-белым теликам, а те, у кого не было телевизора, ходили смотреть его к соседям. Выступает пара из ФРГ. Катаются не очень хорошо — даже я это вижу. Комментатор тоже не в восторге — и я с ужасом думаю: вот сейчас им поставят низкие оценки — и немцы за это пойдут на нас войной. К концу выступления опасение перерастает в уверенность и становится нестерпимым. И я решаюсь поделиться со взрослыми. Мое опасение настолько удивляет взрослых, что они даже не смеются.
«Да нет, конечно», — мама произносит это столь уверенно и изумленно, что я успокаиваюсь. И вот теперь я думаю; а не является ли чувство зависти, мести, ненависти, тщеславия, ущемленного самолюбия, жажды доминировать истинным и основным мотивом принятия решений людей, лишенных нравственности, но наделенных почти неограниченной властью? Зачем Иван Грозный устроил геноцид новгородцев? Зачем Путин вторгся в Украину? Не зачем, а почему? И так ли уж была я в принципе неправа, что боялась нападения на нас из мести?

И лет с пяти у меня появляется обязательный личный ритуал. Перед сном в кровати я задаю тому из взрослых, кто меня укладывает, четыре вопроса и получаю четыре ответа;
— Кровь не пойдет (страдала сильными носовыми кровотечениями, которые останавливала лишь «Скорая»)?
— Нет.
— Войны не будет?
— Нет.
— Никто не умрет?
— Нет.
— Все будет хорошо?
— Да.
Без этого ритуала не могу заснуть, не могу согласиться на сон. Подрастаю, уже меня не укладывают. Но задаю эти вопросы себе — и сама отвечаю. Задаю десятки раз, сотни — ритуал усложняется и становится обременительным, даже мучительным. Он отнимает перед сном много времени. И до тринадцати лет мучаюсь, не могу от него избавиться, пока не признаюсь маме — и она помогает мне освободиться от этой назойливой привычки.
Папа рассказывает мне про разрыв сердца — так он называет инфаркт. Говорит, что разрыв сердца может произойти от переживаний у человека и у животного. Например, у кошки, если при ней будут мучить котят. Вот я — дрянь этакая — подношу черепаху Катьку к раскрытому окну и протягиваю руку над бездной, крепко держа ее. Она начинает сучить лапками, противиться. Папа говорит, что у Катьки может от страха произойти разрыв сердца. Пугаюсь и прекращаю.
А вот по телевизору показывают хронику, часто показывают: вокруг громкоговорителя стоят сотни людей и напряженно слушают объявление о том, что в четыре часа утра (это Киев! Киев!! Киев!!!) без объявления войны Германия вероломно напала на нас. Камера медленно проходит по лицам, а я смотрю на эти лица и с ужасом, сковывающим дыхание, думаю:
Как у них у всех НЕ РАЗОРВАЛОСЬ здесь же на месте СЕРДЦЕ? Как они могли пережить этот момент? Как? Я бы не пережила.

А когда по радио объявляют об очередном полете в космос — тогда летали часто — и начинают вещать торжественным голосом, замираю в мучительном испуге: «Неужели…?», перехватывает дыхание — фу, это же в космос полетели. А потом появился новый враг и новый страх — Китай. Отношения были безнадежно испорчены, бывали эксцессы на границах. По телевизору показывали, как тренируется китайский спецназ. А поскольку они были враги, о них разрешено было говорить правду. И вот в памяти встают две картины.
Бабушка читает какую-то публицистику про культурную революцию, а ее прошу почитать вслух. И бабушка читает, как студенты ловят своего профессора и у еще живого вырывают из груди сердце. А вот китайцы по приказу Мао истребляют воробьев — выходят миллиарды на улицы городов и деревень, орут и не дают птицам сесть. Воробьи падают в изнеможении, а китайцы их нанизывают на палки. Эти озверевшие в крике рожи и всеобщее ликование. Нет, эти были еще страшнее немцев. А потом многие из моих ровесников признаются, что Китай был и их затаенной фобией.
А потом меня вылечила от этого страха сама жизнь. Родители объяснили мне, что в мире существуют ядерные страны — и поэтому никто никогда на нас не нападет, никто никогда уже не будет бомбить Киев ранним утром, когда еще все спят.
Те, у кого нет бомбы (у Китая не было!), ядерной бомбы боятся, а те, у кого она есть, тоже не нападут, потому что это не имеет смысла. Это — взаимное уничтожение.

И теперь, когда я смотрю на этих раненых детей, осиротевших детей, выживших детей, уехавших от войны детей, спасенных детей, всх детей Украины, я испытываю жгучий стыд от сознания своей причастности к этому «русскому миру», который сломал им жизнь — сломал всем без исключения, потому что теперь всю жизнь они будут бояться, что крови еще будет. Они передадут этот страх своим детям и внукам и отравят этим страхом еще не рожденные жизни.
Мне стыдно за свое счастливое детство перед их, поруганным, и моя жизнь тоже до конца дней будет отравлена стыдом и отчаянием. Ведь того, что сделано, уже не поправишь, не вернешь жизни, не выправишь сломанные судьбы. Закройте небо над Украиной! К кому я взываю? К миру, к людям доброй воли? Я молю Бога и Богоматерь каждый день очистить землю Украины от врагов, но я сама в стане этих врагов.
Вы, Алексей, пошли до конца в своей борьбе с тем злом, которое, как бесы, коим имя легион, вошло в плоть и кровь России и причинило эту войну.
Поэтому вы — русский, которому не может и не должно быть стыдно. А это уже недосягаемая высота, уже подвиг. Спасибо вам и простите нас — нас, которые не пошли до конца.
Живи больше, Алеша!