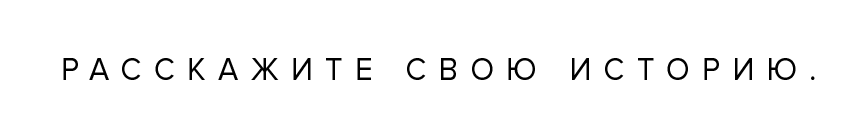Привет, Леша.
В пятницу 2 июля от тебя, наконец, пришли хорошие новости — ты получаешь наши письма, а твоя женщина-цензор очень аккуратная.
Вечером D, подруга Хулигана, позвала меня погулять и выпить вина — мы сто лет не виделись. Я пришла с бутылкой ледяного розе и черешней, и, сославшись на затейпированную ступню — I am not really a walker — предложила апперитив в кустах, на нашей с Поэтом и Хулиганом кинематографичной скамейке у фонтана в центре города.
Мы сидели у Оперного Театра — элегантные, будто собрались на премьеру — и пили вино из бумажных стаканчиков в окружении шумных малолеток и переполненных урн. Фонтан был музыкальный и исполнял Чайковского, D подыгрывала ему на невидимом пианино и говорила, что просто обожает Чайковского, что он сумасшедший, а его произведения заставляют ее путаться в руках и исполнять акробатические трюки за клавиатурой.
Надо ли говорить, как это было?
Мы пили вино и болтали о разном: о депрессивном мае, который каждая из нас переживала в норе по разным причинам, не желая грузить окружающих. О работе, которая нас обеих в данный момент фрустрирует.
О вакцинации — как ее умная и образованная сербская подруга юности-антиваксер рассказывает ей совершенно невменяемые теории заговора. И как сразу после прививки D пошла на вечеринку с друзьями, а наутро не пошла на работу, сославшись на постпрививочную температуру, хотя на самом деле никакой температуры у нее не было — а только похмелье.
D показывала мне свой дом на берегу моря в Черногории, куда она едет на две недели в отпуск — там волшебно, “и я непременно должна однажды приехать к ней в гости.”
Мы опять говорили о ее ненависти к национализму, с которым она сталкивается, и вообще к любого вида ограниченности и скудоумия. Что она — гражданка страны, которой больше нет, большой прекрасной Югославии, а все эти маленькие страночки, от нее отвалившиеся — это печаль. Это как после распада СССР, — говорила я — и национализм здесь — форма ПТСР, и способ формирования и сохранения национальной идентичности.
“Да-да”, соглашалась D, но все равно, мелкому упоротому национализму — нет. Как еврейка она часто сталкивается с предвзятостью и дискриминацией, и поэтому легко идентифицируется со всеми меньшинствами, и презирает тех, кто заставляет людей чувствовать себя ущербными по национальному признаку или оправдываться за то, с кем они спят.
— Ты ведь еврейка не по рождению?
— Да, это был сознательный выбор, я не родилась еврейкой, но еврейкой умру.
Бывший муж D — гражданин Израиля, и она много лет прожила там. Можно было бы поднять тему вины и прощения, начатую с Хулиганом, но я не стала — все и так ясно.
D сказала, что они с Хулиганом часто спорят на тему национализма, но Хулигану “иногда лишь бы побыть против. Ну ты знаешь.” Я смеюсь.
— Он тебе рассказывал про нашу последнюю ссору на тему христианства.
— Да. Ой, когда он начинает, я просто встаю и выхожу, чтобы это прекратить: “Я не буду с тобой спорить, ты прав, ты прав.”
— Ахаха, я тоже встала и вышла — недалеко, из-за стола, просто отсела на метр, чтобы мы оба угомонились. Его это выбесило — типа я высокомерно в одностороннем порядке ставлю точку в дискуссии. А я — я потом ему объяснила — просто пыталась сдержать свою бешеную стерву, чтобы не понеслись клочки по закоулочкам. Я уже научилась себя модерировать, но иногда это требует усилий.
— Ахаха, да! Такая же история!
Мы посмеялись над нашими — всех троих — взрывными характерами. D в лицах показала, как однажды сорвала зеркала заднего вида с машины, которая регулярно парковалась у ее дома так, что невозможно было зайти в подъезд. Даже почти дважды — когда она собиралась сделать то же самое во второй раз, чувак-владелец машины выскочил в окно: “Пожалуйста, пожалуйста, не нужно, я ваш сосед!”
— Ага, сосед, вспомнил!
— А ведь я, вроде, приличная врослая женщина, руководитель департамента — видел бы меня в тот момент мой босс, меня бы тут же уволили!
Я сказала D, что понимаю ее как никто. Недавно на пешеходном переходе прямо передо мной на еще зеленый свет решил проехать джип — я несла из магазина 6-литровую пластиковую бутыль с водой, которой от гнева просто треснула по машине. Думала, водитель сейчас припаркуется за светофором и выйдет ко мне с монтировкой, и придется мне быстро бежать или вспоминать мои навыки муай-тай.
Мы смеялись — да мы хулиганки похлеще Хулигана. Я вспомнила мою буйную Кали, она такая же.
— Я долго пыталась как-то прятать вот это вот свое. Типа дипломатия, я же женщина…
— Ой, я и сейчас пытаюсь прятать.
— …а потом забила — мне столько лет, пошло оно все к чертям. И мне нормально. Они меня немного боятся, но меня это устраивает.
D призадумалась, потом сказала:
— Знаешь, я же всегда была журналистом. И я была очень хорошим журналистом. Делала крутые расследования. А стала пиарщиком.
— Я тоже хотела быть журналистом и даже немного училась, но потом мне показалось, что это слишком поверхностно, я бросила. Но все равно была журналистом. И пиарщиком тоже. Не думаю, что для этого вообще нужно образование.
— А как твой проект Письма Навальному, ты еще его делаешь?
— Да, конечно. Люди со всего мира пишут письма Леше и присылают их мне. Это прекрасно. И я тоже пишу ему письма.
— Это потрясающая идея. Слушай, я знаю здесь одну девушку, надо вас познакомить, она работает в The New York Times. Она могла бы написать о твоем проекте, но ей понадобится встречное одолжение. Она пишет о политических беженцах из России и Беларуси, может быть ты могла бы помочь ей контактами таких людей и медиа?
— О боже, конечно! Все, что нужно. Я знаю много кого, и знаю тех, кто знает много кого.
— Супер, мы могли бы встретиться прямо сегодня.
Мы гуляли по центру города; D рассказывала о своем крутейшем отце, который был ее кумиром, общественным деятелем, и убежденным коммунистом, и как в 19 лет она получила от него пощечину. Она только что вернулась из Канады, где училась и жила у родственников, и на очередную лекцию отца о коммунизме за семейным обедом заметила, что канадские коммунисты почему-то, по непонятной D причине, живут куда лучше югославских.
Ее канадский дядька, шахтер, приходит на обед в своем красивом кондиционированном доме чистый после душа, хорошо одетый и пахнущий — и это вовсе не тот треш, в котором живут наши шахтеры за чертой бедности. Что-то здесь, в Югославии, с коммунизмом не так. Слово за слово — отец влепил ей пощечину, при всех. D не разговаривала с ним три месяца — он был вынужден прибегать к помощи ее друзей, чтобы помириться. Он чувствовал себя очень виноватым. Но ведь за дело, сказала я. “За дело.”
Накануне как раз исполнилось 100 лет китайскому коммунизму, праздновали с большим размахом.

…
Час спустя, в татарском ресторанчике, который так любят Хулиган и его крымскотатарские друзья, мы выпивали с репортером The New York Times Валери и тремя боснийскими ребятами — Аминой, еще одной Аминой и Ясминко. Они открывают в Киеве выставку, а Валери едет работать в Москву и ждет здесь визу.
— Уууу, я уже говорила D: это максимально интересное время, чтобы ехать в Москву.
— Да? А я, наоборот, думала, что будет скучно — все наши, журналисты, или арестованы, или уехали. Плюс пандемия, никого никуда не пускают, ничего не происходит.
— Ну я в смысле… Японское проклятие ‘May you live in interesting times’ знаешь? Вот. Это очень интересные времена.
— Да, она верит, что скоро все коллапснет. — сказала D.
— Ну, в сентябре фальсифицированные выборы, может быть интересно. Ну и принудительная вакцинация.
Я напомнила, что несмотря на ее вакцинацию Pfizer, ее тоже никуда не пустят в Москве, потому что в России канает только Спутник.
— В общем, это примерно как командировка в Северную Корею. Рисковый трип. Ты там аккуратно, а то и вас объявят нежелательной или экстремистской организацией.
Валери упомянула какой-то северно-корейский абсурдный эпизод — в ответ я лишь фыркнула, и не без хвастовства — это что, а вот у нас! — рассказала ей про подростка, намеревавшегося взорвать здание ФСБ в Майнкрафт и отсидевшего за это 11 месяцев; и про реальный срок, который получил Боровиков за репост клипа Rammstein ‘Pussy‘.
Она не знала об этих кейсах и, кажется, была впечатлена, как и остальные за нашим столом. (Может, The New York Times уделит внимание этому запредельному бреду и напишет о нем, замиксовав статью с цитатами Хеллера?)
— Подросток? 11 месяцев? Но это же незаконно! — возмутились две Амины.
— Закон? Ха-ха, что это? В России нет ни закона, ни института правосудия. А государственный строй называется ‘беспредел’.
Я рассказала Валери, с которой мы сидели рядом, что уехала из Москвы Крымской весной потому, что даже тот уровень деградации был для меня несовместим с жизнью, а многие люди тогда даже не поняли к чему все идет. И только теперь до многих дошло — теперь, когда каждый день происходит то, что мы называем “новый уровень дна”. Это когда кажется, что падать уже некуда, но нет — всегда обнаруживается еще одно андер-дно за андер-дном.
Валери немного знает и русский, и сербский — так что и про ‘дно’, и про ‘беспредел’ она поняла. Никогда бы не подумала, что доведется объяснять иностранцам русскую экзистенцию такими образами.
Как обычно, все периодически переходили с английского на сербо-хорватский, на русский и обратно.
— Ты понимаешь, когда мы по-сербски? — спрашивала D.
— Когда долго общаюсь с моими сербами, понимаю. Когда летела в Сербию, в самолете болтали люди — вообще все понимала.
Ребята заказывали татарскую еду и мы обсуждали принятый намедни в Украине закон о коренных народах, который ужасно возмутил невежественный Кремль тем, что русские в нем не фигурируют. Но в нем не фигурируют и украинцы — это закон, защищающий этнические меньшинства — крымских татар, караимов и крымчаков — и являющийся прологом к реинтеграции крымского населения в Украину и частью Крымской Платформы.
Я рассказала Валери крымскую секретную фишку, о которой мне весной в этом же кафе поведал крымский татарин Эмиль.
Поскольку украинский флаг в Крыму запрещен, а татарский запретить власти по закону не могут, крымскотатарский флаг стал символом оппозиции и проукраинской позиции.

…
А дальше случилось то, что все время случается в моих письмах тебе. Молодой, красивый, тонкий и негромкий босниец Ясминко оказался автором книги War Childhood: 1992-1995 и создателем проекта War Childhood Museum, экспозицию которого он и приехал открывать в Киев.
…
“Музей Военного Детства вырос из идеи, которую его директор Ясминко Халилович придумал в 2010 году. По его словам, за чашкой кофе и напитками в столице Боснии Сараево, которая во время войны была осаждена более трех лет, его друзья иногда делились абсурдными, забавными и часто болезненными воспоминаниями из своего военного детства.
Халиловичу было 4 года, когда в 1992 году началась война; он сказал, что вспомнил, как два года спустя учился ездить на велосипеде во время редких перерывов в обстрелах. В 2010 году он запостил пост в Facebook с простым вопросом: «Каким было ваше военное детство?» и получил более 1000 ответов. В 2013 году он опубликовал их в виде книги «Военное детство».
Два года спустя книга была переведена на японский язык, и Халилович сказал, что универсальность военного детства поразила его во время рекламного тура по Японии. Там он встретил выживших после американских ядерных атак на Хиросиму и Нагасаки.
«В Японии, встречая 85-летних, которые были детьми во время Второй мировой войны и полностью отождествляли себя с опытом боснийского ребенка 1990-х годов, я понял, что у этого общего опыта нет границ», — сказал он.
14 декабря ознаменует 20-ю годовщину подписания Дейтонских соглашений и официального окончания боснийской войны, которая длилась более трех с половиной лет и в конечном итоге унесла жизни примерно 100 000 человек. Из конфликтов, разразившихся после распада Югославии, война в Боснии, несомненно, была самой жестокой. К ее концу десятки тысяч боснийских женщин были изнасилованы, 2.2 миллиона человек остались вынужденными переселенцами, а в Европе — впервые после окончания Второй Мировой Войны — была заново представлена концепция геноцида.
Хотя почти ни один крупный населенный пункт не избежал затяжных и неизбирательных обстрелов, которые должны были стать визитной карточкой глобального телевидения, именно Сараево, космополитическая столица Боснии, олицетворяла безжалостный характер нападения.
Обычно называемый «Иерусалим Европы» за его многовековую репутацию центра культурного и религиозного разнообразия — до конца двадцатого века он был единственным европейским городом, в котором были мечеть, синагога, православная церковь, и католическая церковь в том же районе — довоенный Сараево был так же известен на Балканах своими зимними видами спорта, кафанами и рок-музыкантами, как и своим интегрированным населением хорватов, сербов и боснийцев.
Все изменилось 5 апреля 1992 года, когда после провозглашения независимости Боснии от Югославии и недель эскалации напряженности и спорадических вспышек насилия в столице, снайперы из числа этнических сербов, действовавшие по приказу Радована Караджича и антисецессионистской сербской Демократической Партии, открыли огонь по многонациональной акции протеста за мир в центре города, в результате чего погибли две молодые женщины.
В течение месяца военизированные формирования боснийских сербов численностью 13 000 человек, расквартированные на окружающих холмах, окружили Сараево, заблокировав город и приведя в действие то, что должно было стать самой продолжительной осадой в истории современной войны.
В течение 1425 дней те, кто не мог или не хотел покинуть город, подвергались каталогу злодеяний, слишком многочисленному, чтобы их можно было вообразить. Мир выглядел так, как будто в среднем 329 снарядов в день обрушивались на медицинские центры и школы, жилые кварталы и коммерческие районы, правительственные здания и культурные учреждения.
Почти постоянный снайперский огонь превратил банальные перемещения по городу в ежедневный танец со смертью. Виечница — красивая псевдо-мавританская национальная и университетская библиотека на берегу реки Милячка с фасадом, напоминающим крепость, и 1.5 миллионами томов — была сожжена дотла. Потребность в гробах и дровах была настолько велика, что в парках Сараево не осталось деревьев.
Стадион Кошево и окружающие его комплексы, которые менее десяти лет назад принимали у себя церемонию открытия Зимних Олимпийских игр 1984 года, превратились в поле битвы и импровизированное кладбище. 11 541 мирный житель погиб в результате осады Сараево; по крайней мере 521 из них были детьми.
По оценкам ЮНИСЕФ, из примерно 70 000 детей, проживавших в городе в этот период, 40 процентов были обстреляны, 39 процентов видели, как один или несколько членов семьи были убиты, а 89 процентов были вынуждены жить в подземных убежищах, чтобы избежать обстрелов.” — Валери Хопкинс
…
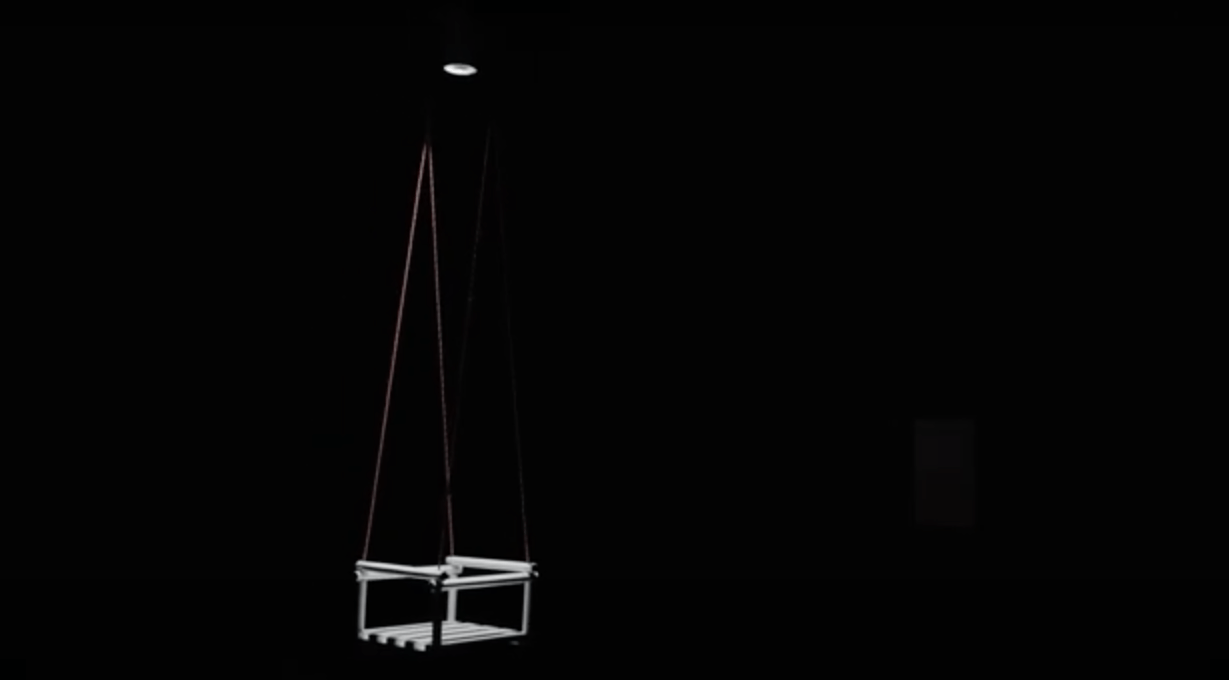
Помнишь мальчика из предыдущего письма? Мальчика из Сараево, который прошел всю улицу по трупам, ни разу не коснувшись земли?
Хулиган не знал почему рассказал мне о нем — да просто потому, что он вот-вот должен былпоявиться в истории. И это не какой-то пропагандистский славянский ‘распятый мальчик’, и не мальчик, ‘скормленный львам‘, о котором рассказывала D, а самый настоящий мальчик из Сараево, ребенок войны.
…
“В первые недели осады я испытывал сильный голод. У меня на лбу появился синяк, когда я ударился об пол неудобного фургона, который мчался, чтобы отвезти меня и мою семью в другую, более безопасную часть города. Пятнадцать месяцев я жил в офисе отца, моясь в умывальнике. Мирела, моя первая детская любовь, была убита.
Я смотрел чемпионат мира 1994 года — это были первые футбольные матчи, которые я хорошо помню. Я не мог понять, как могло случиться, что где-то в мире люди играли в футбол, а здесь бушевала война. Тем не менее, я болел за Италию и плакал, когда Роберто Баджо пропустил пенальти в финале. Рождение моей сестры, за пару дней до подписания Дейтонских соглашений, ознаменовало конец войны, а также начало моей остальной жизни.” — Ясминко Халилович
…
Историю из статьи Валери о том, что в парках Сараево не осталось деревьев, потому что не хватало гробов, они с D продолжили обсуждать, когда мы уже вышли на улицу и втроем пошли в направлении дома.
— Сигара? — предложила Валери D сигарету по-сербски.
Я засмеялась и рассказала им историю о книге “Хорватские Поэтические Хулиганы”, подаренной Хулигану нашим знакомым беларуским Поэтом, и как Хулиган стал читать оттуда стих, а мне было всё понятно: curva, lezbijka, cigara. Стих назывался Nesavršenost — я наконец произнесла это слово вслух наугад — и так же называется мое свежее письмо Навальному.
— Я там тоже есть, в ее блоге! Правда, велела спрятать меня под псевдонимом. Я обещаю тебе, что однажды я обязательно напишу хотя бы одно письмо Навальному для тебя.
— О, пожалуйста, это было бы прекрасно!
Мы расстались в центре города незадолго до полуночи, разошлись в 3 стороны, как в сказке, обнявшись и договорившись замутить что-нибудь вместе.
— Если что, ты в следующий раз мне напиши: “Не в депрессии ли ты, случайно, тоже?”, и мы просто депрессивно затусим, — сказала я D.
“Чао, чао, чао!” — разлетелись три наших ‘чао’ над перекрестком, как птички. Обожаю это балканское “ciao” — как и итальянцы, они говорят его и при встрече, и на прощанье.
Чао, дорогой Навальный.
Жизнь — такая сложная, но такая занятная вещь. Такая трудная и такая легкомысленная, знаешь.
‘когда жизнь напоминает пустые качели —
сядь! и встань! и до головокруженья! —
пока не поймешь, что ты — ребенок,
которому они предназначены.’